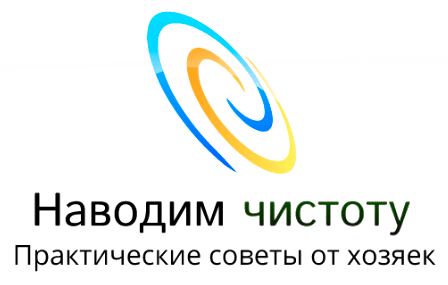Как отмыть деньги через нко
Изменение в признаках сомнительных операций для НКО позволит банкам расширить поле для усмотрения нежелательных признаков в их работе, сказал РБК профессор факультета права Высшей школы экономики Илья Шаблинский. «В новой версии не перечислены даже виды НКО, которые могут быть получателями этих средств, — отметил он. — Перечисленные признаки — это очень общие признаки, под них может попасть большее, чем ранее, количество организаций». Вводя подобные ограничения, государство стремится иметь больше возможностей для контроля за деятельностью НКО, убежден он.
Поправка скорее похожа на борьбу со скрытым иностранным финансированием некоммерческих организаций, чем на противодействие отмыванию денег через НКО, считает руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции аудиторской компании ФБК Grant Thornton Александр Сотов. По его словам, чаще всего в отмывании денег бывают задействованы профсоюзы или религиозные организации, последние могут в больших объемах принимать пожертвования от лиц за рубежом, потом заключать договоры с иными лицами и тратить эти деньги в их интересах. «В отношении НКО подобного не замечалось», — говорит эксперт.
«Если поправка войдет в перечень признаков сомнительных операций, банки, может, и не будут блокировать подобные платежи, но с высокой долей вероятности будут направлять сообщения о таких транзакциях в Росфинмониторинг и ЦБ. И интерес властей вызовут лица и организации, которые перечисляли деньги НКО», — замечает Сотов.
Указанная в новой редакции норма выглядит значительно менее размытой, поскольку устанавливаются более понятные признаки формирования рисков, сказал РБК партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Регулярные транзакции чаще всего используются, для того чтобы запутать источник происхождения денежных средств и придать им вид обоснованного с точки зрения легальности получения платежного средства», — говорит эксперт. Фактически правила поведения НКО «выпрямляют» под общие тенденции работы надзорных органов, заключает Горбунов.
Как государство ограничивало деятельность НКО
В марте 2018 года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил президенту, что ряд российских некоммерческих организаций продолжает получать из-за границы деньги, «которые идут на определенные степени деструктивности». По его словам, ведомство тогда отслеживало порядка 80 млрд руб., поступивших НКО из-за границы и «не все для благих целей».
В январе Минюст отказал Михаилу Федотову в отмене обязанности НКО сообщать об иностранном финансировании российских компаний, жертвующих им средства (Федотов выступил с этим предложением еще тогда, когда был главой президентского Совета по правам человека).
Летом 2018 года Минюст ввел новые требования к НКО. Они предписывают некоммерческим организациям указывать не только прямые иностранные источники финансирования, но и зарубежные источники российских компаний — доноров НКО. Согласно закону признаются иностранными агентами некоммерческие организации, получающие деньги не только напрямую от иностранных структур, но и от российских юрлиц с иностранными источниками финансирования. Кроме того, Минюст стал запрашивать персональные данные и данные о доходах физических лиц — сотрудников и контрагентов НКО. Законом сбор и обработка таких персональных данных Министерством юстиции не предусмотрены, указывал Федотов.
Закон об НКО-иноагентах был принят в России в 2012 году. С момента вступления закона в силу в их список попали, в частности, Левада-центр, центр «Сова», фонд помощи осужденным «Русь сидящая», «Мемориал», ассоциация «Голос», Сахаровский центр и многие другие НКО. В 2019 году иноагентами разрешили признавать и физических лиц.
Директор Crime Finance, бывший «обнальщик» и экс-сотрудник МВД, об обнальных схемах, «вторых зарплатах» для менеджеров банков и скупке металлолома
Я учился в нижегородской школе милиции, которая специализируется на борьбе с экономической преступностью. После нее несколько лет работал в структурах МВД города Иваново в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, потом перешел работать в налоговую полицию, где еще пару лет отработал оперуполномоченным.
В 2003 году налоговую полицию расформировали, и я оказался по другую сторону баррикад. Во время работы в налоговой полиции насмотрелся, как люди зарабатывали деньги на различных аферах и махинациях, и появился соблазн заняться «обналом». В этом бизнесе деньги зарабатывают буквально из «воздуха» — приходят деньги одной из компаний на банковский счет, ты их снимаешь и возвращаешь (зарабатывая свой процент). При этом компания-клиент уходит от налогов (НДС или на прибыль).
Сначала у меня были один-два клиента, которые переводили через меня небольшие суммы около 100 000 рублей в месяц. В то время мой процент был около 3,5% и если учесть, что 1% забирал банк, то со 100 000 рублей заработок был всего 2 500 рублей. Но бизнес рос. Мои клиенты стали рекомендовать меня другим, их становилось все больше и больше. Я начал расширяться: организовывал новые ООО, привлекал сотрудников и обналичивал все в больших объемах. Потом на меня стали выходить крупные оптовые компании, которые обналичивают деньги для московских конечных клиентов. Они заказывали огромные суммы.
На сегодня в Москве стоимость «обнала» выросла до 8%. Обналичивать стало труднее, столица уже давно ринулась в регионы. Региональные банки более «сонные» и «наличку» добывать у них легче. Сейчас крупные московские компании покупают деньги в регионах по 5-6% и продают их конечным потребителям по 8%. Когда я этим занимался, продавал деньги в Москву за 3,5%, а конечному покупателю их продавали за 5%.
В крупных банках обнальные схемы проходят на «ура», особенно, если обнальная компания находит связь с руководителем местного отделения и платит ему «вторую» зарплату.
Банкиры сами дают рекомендации партнерам по «обналичке»: «обналичивайте, но немного» или «сейчас остановитесь, у нас запрос от ЦБ пришел». В основном весь рынок обнала крутится вокруг трех крупнейших банков. Более мелкие банки, у которых есть риск потерять лицензию, больше переживают и дают работать пореже и с мелкими суммами. Хотя если собственник банка понимает, что на своем банке он не зарабатывает или несет убытки, тогда он «продает» его обнальщикам, либо составляет им конкуренцию.
Типичный апофеоз истории с банкиром-обнальщиком — к нему приходит проверка ЦБ и указывает на нарушения. Владелец банка прикидывает сроки проверки и начинает заниматься «обналичкой» в серьезном масштабе чтобы заработать максимальное количество денег и вдобавок еще выводит активы. Терять ему нечего, он все равно потеряет лицензию и «корабль потонет».
Существует много интересных схем, например, была популярна скупка металлолома. В компанию, которая занимается скупкой металла физлица сдают в день лома на 50 000 рублей. Деньги для оплаты им компания должна снять в банке. Последний просит предоставить документы — копии паспортов людей, сдавших металл. В банк предоставляются поддельные или потерянные паспорта людей и на них оформляется сумма 1,5 млн рублей. Компания подает в банк заявку на эту сумму и получает деньги. Позже наличные деньги передаются клиентам, которые заранее перечислили безнал в компанию-сборщик лома.
Банкиры часто закрывают глаза или ставят условие: «мы вам даем двадцатку в месяц, но не больше». Фирма согласилась и обналичивала по 20 млн рублей в месяц, тогда как металлолома реально сдавали на 500 000 рублей.
Похожим образом действуют фирмы, закупающие у фермеров овощи, фрукты, скупают мед или травы у населения.
Всегда ли банкиры знают о схемах? Конечно. Хотя соглашались с нами работать не только из-за «вторых зарплат». В некоторых банках деньги не брали, но работали, потому что официально получали от сделок большой процент. Хотя некоторые кредитные организации с нами принципиально не работали.
В работе с банками мы использовали и обычные схемы: снимали с пластиковых карт физлиц, со счетов юрлиц, использовали векселя, создавали для банков видимость реальной деятельности. Но схемы модернизировались и давно вышли за пределы банковской системы. Например, популярна скупка наличных в торговых сетях. Многие розничные операторы, крупные сети, магазины, автозаправки, рестораны продают свой «кэш».
За пять лет работы в этом бизнесе у меня сформировалась сеть в более, чем десяти регионах, сотни фирм, двести человек сотрудников, очень запутанные денежные потоки. Мы обналичивали до 100 млн рублей в день. Но много уходило на зарплаты и на безопасность — людей, прикрывающих нас в криминальной составляющей бизнеса («крышу»).
Еще одна из самых больших проблем обнального бизнеса — это воровство подчиненных. Директор одной из сотен схемных ООО вдруг забирает деньги и срывается куда-нибудь за границу. Обычно на кризисные ситуации закладывается специальный фонд, а доходы перекрывают потери. Случаются ситуации и с риском для жизни — налеты и кражи. У моего знакомого в Москве расстреляли инкассаторов. Это очень опасный бизнес.
Неприятность случилась и со мной. Когда объем обналиченных денег зашкаливал за миллиарды рублей, в какой-то момент меня арестовали сотрудники ФСБ.
Почему так получилось? Многие в этом бизнесе умеют договариваться с органами, но по местным меркам мое дело было резонансным и крупным — объемы были огромными для маленького города, обо мне уже знали и в ЦБ, и правоохранительных органах. Вдобавок мною занимались не полиция, а ФСБ. Из меня сделали небольшой показательный процесс.
Пока шло следствие, мне пришлось год отсидеть в СИЗО. В итоге я дал признательные показания, уголовное дело для меня завершилось тем, что мне засчитали тот срок, который я провел в изоляторе. Какой я сделал вывод? Когда я работал, то считал, что раз не ворую у конкретного человека, то это нормальный бизнес. Но затем осознал, что все равно это воровство — с обналиченных денег не платятся налоги. Раньше я об этом не думал или не понимал.
Так как денежный поток от старого бизнеса закончился и я оказался на мели, то решил создать компанию Crime Finance. Теперь я предлагаю фирмам выявлять незаконные схемы. Например, провожу мастер-классы — рассказываю, как обнальные фирмы закрепляются в банках, и как их выявить. Я знаю эти схемы наизусть, как каменщик, который 20 лет кладет кирпичи и может построить дом с закрытыми глазами.
В сентябре 2019 года Центр цифровой экспертизы Роскачества опубликовал рекомендации, которые помогут отличить настоящий благотворительный фонд от «фальшивки». Эксперты отмечают рост благотворительной активности среди жителей России, ежегодно суммарно россияне перечисляют миллиарды рублей на благие цели, точную сумму назвать невозможно. Как работают благотворительные НКО, откуда поступают деньги, как и на что фонды их тратят.
Противоречивые чувства
В ежегодном всемирном рейтинге благотворительной активности в 2018 году Россия заняла 110-е место, поднявшись на 14 позиций по сравнению с 2017 годом. Шестерка лидеров в сфере благотворительности в 2018 году представлена Индонезией, Австралией, Новой Зеландией, США, Ирландией и Великобританией. Рейтинг составляется фондом развития и поддержки благотворительности CAF (на основе исследований Центра Gallup, которые проводятся в 153 странах мира, в опросах участвует около 140 тыс. респондентов).
Согласно исследованиям, проведенным Сбербанком, клиенты этого банка в 2018 году перечислили на благотворительные цели 3,8 млрд руб. Большая часть пожертвований была направлена тяжелобольным детям и религиозным организациям.
Возрастающую вовлеченность россиян в благотворительные процессы исполнительный директор фонда поддержки и развития социальных программ «Социальный навигатор» Татьяна Задирако связывает не только с успешной работой самих фондов, но и с тем, «насколько стали разнообразны способы помощи, как расширилась линейка сервисов, через которые можно совершить пожертвование. Сегодня это мобильный телефон, банковская карта, интернет, мобильные платежные системы, клиентские программы по социально ориентированному маркетингу, когда, совершая практически любую финансовую операцию, даже делая покупку в магазине, человек может оказать помощь нуждающимся. Это легко и просто».
Наряду с очевидным ростом участия россиян в благотворительной деятельности эксперты CAF отмечают, что 44% опрошенных жителей страны не доверяют благотворительным организациям. «Причин недоверия к фондам несколько. Это и шлейф «лихих» 90-х, когда конторы создавались для отмывания денег,— рассуждает директор благотворительного фонда «Нужна помощь» Анна Семенова.— Прошло время, законы сильно изменились. Теперь фонд, пожалуй, самый неудобный способ для отмывания денег. Но шлейф остался. А вникать в нюансы мало кто хочет. В этом еще одна причина. Если болеет ребенок, надо дать денег, помочь его родителям — такой расклад понятен. Когда же речь идет о помощи бездомным или поддержке самих фондов, то тут должно быть огромное желание разобраться, вникнуть, а времени на это нет. Кроме того, мне кажется, дело еще и в общем уровне недоверия в стране. Мы не доверяем нашим государственным органам — «все они хотят взяток», не доверяем коммерческим компаниям — «они на нас наживаются»».
«Согласно «Барометру Эдельмана» и по данным последних исследований, у нас в стране люди мало доверяют институтам — государственным, социальным, общественным. И на этом фоне благотворительные фонды выглядят совсем неплохо»,— считает директор фонда поддержки и развития филантропии КАФ Мария Черток.
«Барометр Эдельмана» (Edelman Trust Barometer) — ежегодное исследование уровня доверия к различным социальным институтам, проводимое американской компанией Edelman в разных странах мира.
Как помогают
Для сбора пожертвований фонды используют собственные сайты и социальные сети; привлекают СМИ — телевидение, радио, интернет-издания, газеты; заключают договоры пожертвования с корпоративными донорами, юридическими лицами; проводят различные благотворительные мероприятия. «Хотя благотворительность у нас пока еще преимущественно спонтанная, растет число людей, которые осознанно выбирают один-два фонда и переводят им пожертвования регулярно, следят за их работой,— отмечает Мария Черток.— Это касается не только фондов, специализирующихся на лечении детей, но и правозащитных, помогающих животным, заботящихся о стариках, поддерживающих хосписы. Люди активно помогают НКО, а еще лет десять назад мало кто понимал, что такое хоспис и зачем он нужен».
Сколько средств собрали крупнейшие благотворительные фонды в 2017 году
По данным «Русфонд.Навигатор».
Сегодня сделать пожертвование можно, отправив СМС с мобильного телефона, сделав перевод с банковской карты или из системы электронных платежей. Согласно исследованию фонда «Нужна помощь», 100 руб.— наиболее распространенная сумма частного пожертвования в нашей стране. «Из стоимости СМС вычитается только стоимость НДС, которую в любом случае должны уплатить государству,— сообщается на сайте благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Русфонд».— Законопроекта, упраздняющего в данном случае уплату НДС,— нет». Из 75 руб., отправленных абонентами, в Русфонд будет перечислено: «Билайн» — 71,25 руб., «МегаФон» — 69,07 руб., МТС — 69,00 руб., «Мотив» — 57,17 руб., Tele2 — 69,75 руб., Yota — 69,07 руб.
По данным экспертов платежного сервиса CloudPayments, за последние пять лет доля регулярных онлайн-пожертвований в России выросла в 75 раз. Показатель рассчитывался относительно всего объема интернет-взносов в благотворительные организации. В январе 2019 года перечисления составили 25 млн руб., в январе 2018 года они были 14,5 млн руб., а в январе 2017 года — 3 млн руб.
«Мы стараемся держать уровень административных расходов на очень низком уровне,— подчеркивает директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.— По закону НКО имеет право до 20% от расходуемых за год средств направлять на административные расходы. Внутренняя политика «Подари жизнь» не позволяет нам выходить за 10%, а в реальности мы тратим и того меньше. Поэтому размер комиссии с пожертвования для нас вопрос принципиально важный. С самого начала сборов через СМС мы приняли решение, что будем сотрудничать только с операторами, совокупная комиссия у которых не превышает 5%. То же самое с компаниями, через которые мы подключаем возможности делать онлайн-платежи в наш фонд,— комиссия находится в пределах 3%. Комиссия за обработку пожертвований в нашу пользу через платежные терминалы составляет максимум 5%. Минимальная комиссия — это неизбежность, потому что провайдеры не могут работать в минус». «В среднем в год мы платим больше 5 млн руб. комиссии различным платежным системам»,— признается директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Скоробогатова.
Фонды предлагают жертвователям разные варианты перевода благотворительных средств. В частности, они указывают, что Сбербанк работает с ними без комиссии. По мнению госпожи Скоробогатовой, «пониженные тарифы для перечислений пожертвований в пользу НКО установить могли бы все платежные системы».
Сумма пожертвований, которую перечислили в фонд, обычно отображается на сайте организации с указанием: от кого и на какие цели. Фонд не обязан публично предоставлять такую информацию, но многие публикуют. Если невозможно найти на сайте информацию, стоит обратиться в фонд, где ее предоставят.
На общих условиях
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
Для физических лиц, сделавших пожертвование, сегодня существуют налоговые послабления. Физическое лицо, имеющее постоянное место работы, может получить налоговый вычет 13% от суммы пожертвования. Соответствующую справку можно получить в благотворительном фонде, куда были перечислены средства.
Благотворительная деятельность в России регулируется несколькими документами: федеральными законами «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», «О меценатской деятельности», «О некоммерческих организациях» и нормами Гражданского и Налогового кодексов.
«А вот налоговые льготы для коммерческих организаций, юридических лиц пока наша мечта,— констатирует исполнительный директор фонда «Социальный навигатор» Татьяна Задирако.— Действующее законодательство предписывает коммерческим организациям, которые занимаются благотворительностью, оказывать помощь только из средств чистой прибыли. Организации не освобождены от уплаты налога на прибыль из тех сумм, которые были направлены на благотворительность. Согласно ст. 252 НК РФ, не учитываются расходы «в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей», а также «целевые отчисления, сделанные налогоплательщиком на содержание некоммерческих организаций». «Министерство финансов РФ и местные региональные власти считают, что в данном случае налоговые послабления уменьшат поступления в бюджет. Что мне представляется излишним опасением, так как деньги будут поступать в регионы через иные каналы и с возможностью большей диверсификации в вопросах финансирования социальных программ», — отмечает Татьяна Задирако.
«Последние годы доля пожертвований от юридических лиц постепенно снижается (за пять лет упала с 50% до 20%). Но я не могу сказать, что мы стали меньше работать с бизнесом — меняются форматы. Сейчас многие компании развивают корпоративные мотивационные программы для сотрудников и вовлекают их в волонтерство, в том числе интеллектуальное, а пожертвования на уставную деятельность фондов заменяют грантами на конкретные проекты,— рассказывает Анна Скоробогатова.— Хочется закрепить законодательно понятие «безвозмездный краудфандинг» и внести изменения в Налоговый кодекс. Как и упрощенное проведение благотворительных аукционов и лотерей — по текущей версии закона «О лотереях» такие денежные поступления тоже считаются нашим доходом и облагаются налогами». «Налоговые льготы на благотворительность для юридических лиц хорошо стимулировали бы развитие благотворительной деятельности»,— отмечает и Анна Семенова.
Сдержанные эмоции
«В благотворительности много строится на чувствах сопереживания и сострадания. Но мы в том числе стремимся сделать так, чтобы решения помочь принимались не на эмоциях, а на четком понимании того, как пожертвование не только поможет конкретному ребенку, но и поменяет всю систему помощи в сфере детской онкологии,— рассуждает Екатерина Шергова.— Чтобы в больницах было все отлажено и никому из детей не пришлось ждать, когда на него соберут деньги. Поэтому мы стараемся информировать людей о том, почему лучше жертвовать на проекты, а не на конкретных детей. Такая благотворительность помогает фонду планировать расходы, составлять бюджет, то есть помогать эффективно».
Административные расходы — это зарплата сотрудникам фонда, аренда и содержание офиса. Сведения о таких расходах должны указываться в отчетных документах организации. На сайтах фондов в отчетах они чаще указаны весьма лаконично: «административно-хозяйственные», реже фонды расписывают их подробно. Благотворительный фонд, конечно, не занимается производством, но его вполне можно сравнить с заводом или конвейером, особенно крупный фонд. Здесь работают разные специалисты: организаторы сбора денег, эксперты, менеджеры, бухгалтеры, волонтеры и другие.
«Эмоции в благотворительности — важная составляющая. Без них никуда. Как и в целом в жизни,— отмечает соучредитель фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.— Но, как и в любой другой, в нашей сфере деятельности необходимо в первую очередь выстраивать процессы, анализировать метрики, следить за выполнением заранее определенных договоренностей, все делать профессионально. Ни в коем случае нельзя зависеть от эмоциональных порывов людей, какими бы сильными они ни были. Поэтому благотворительность должна быть профессиональной и эффективной, но при этом каждому из нас очень важно оставаться человечным. Такой человеческий подход отличает наш благотворительный сектор».
Ксения Атамас