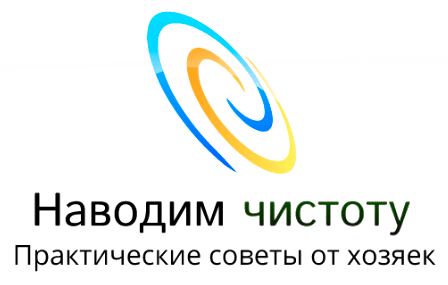Стирал границу между добром и злом
Главный философский вопрос романа Достоевского “Преступление и наказание” — границы добра и зла. Писатель стремится определить эти понятия и показать их взаимодействие в обществе и в отдельном человеке.
В протесте Раскольникова трудно провести четкую грань между добром и злом. Раскольников необыкновенно добр и человеколюбив: он горячо любит сестру и мать; жалеет Мар-меладовых и помогает им, отдает последние деньги на похороны Мармеладова; не остается равнодушным к судьбе пьяной девочки на бульваре. Сон Раскольникова о забитой насмерть лошади подчеркивает гуманизм героя, его протест против зла и насилия.
В то же время он проявляет крайний эгоизм, индивидуализм, жестокость и беспощадность. Раскольников создает античеловеческую теорию “двух разрядов людей”, которая заранее определяет, кому жить, а кому умереть. Ему принадлежит оправдание “идеи крови по совести”, когда любого человека можно убить ради высших целей и принципов. Раскольников, любящий людей, страдающий за их боль, совершает злодейское убийство старухи-процентщицы и ее сестры, кроткой Лизаветы. Совершив убийство, он пытается утвердить абсолютную нравственную свободу человека, что, по существу, означает вседозволенность. Это приводит к тому, что границы зла перестают существовать.
Но все преступления Раскольников совершает ради добра. Возникает парадоксальная идея: в основание зла положено добро. Добро и зло борются в душе Раскольникова. Зло, доведенное до предела, сближает его со Свидригайловым, добро, доведенное до самопожертвования, роднит его с Соней Мармеладовой.
В романе Раскольников и Соня -г- это противостояние добра и зла. Соня проповедует добро, основанное на христианском смирении, христианской любви к ближнему и ко всем страдающим.
Но даже в поступках Сони сама жизнь стирает границу между добром и злом. Она совершает шаг, полный христианской любви и добра по отношению к ближнему, — продает себя, чтобы не дать умереть с голоду больной мачехе и ее детям.
А себе, своей совести, она причиняет непоправимое зло. И опять в основание зла заложено добро.
Взаимопроникновение добра и зла можно увидеть и в кошмаре Свидригайлова перед самоубийством. Этот герой совершает в романе цепь злостных преступлений: изнасилование, убийства, растление малолетних. Правда, факт совершения этих преступлений автором не подтверждается: в основном это сплетни Лужина. Зато совершенно точно известно, что Свид-ригайлов устроил детей Катерины Ивановны, помог Соне Мар-меладовой. Достоевский показывает, как в душе этого героя происходит сложная борьба между добром и злом. Достоевский пытается провести в романе границу между добром и злом. Но человеческий мир слишком сложен и несправедлив, в нем стираются границы между этими понятиями. Поэтому Достоевский видит спасение и истину в вере. Христос для него — высший критерий нравственности, носитель истинного добра на земле. И это единственное, в чем писатель не сомневается.
Задачи и тесты по теме «Проблема добра и зла в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»»
«Мария Городова! Хватит убаюкивать нас сказками про крест, распятие Иисуса и тому подобным мракобесием: доказательств все равно никаких. Лучше б вы, как положено журналисту, занялись актуальными темами. Оглянитесь вокруг! Что у нас проблем мало? Пока попы машут кадилом, мы на глазах дичаем. Любой обдолбанный питекантроп может сесть на «Тойоту» и, не приходя в себя, размазать по асфальту случайно попавшихся ему на пути детей и учительницу. А сами дети? Уже никто не удивляется, когда подростки избивают одноклассника и вывешивают снятое видео в Интернете. Да и Всемирная паутина не лучше: порнуха, потоки оскорблений, зловонные разборки, актриски, ради пиара выкладывающие на всеобщее обозрение свои голые телеса, — паноптикум! Вот о чем писать надо! А вы, ну прям блаженная, заладили: «Святыня! Крест! Действенная Любовь»!»
Zombi Demokrator (из электронного письма после статьи «Слово о Кресте» («РГ-Неделя», N 217)
И Вам, добровольно избравший себе имя Zombi Demokrator, здравствуйте! Градус накала страстей в спорах вокруг религии последнее время пугающе высок. Над формулировками уже не заморачиваются, даже если речь заходит о реальной беде, трагической гибели безвинных. И все же, пока есть хоть малый шанс на диалог, давайте разговаривать.
Жизнь ради рейтинга
Начнем с попов. Они, кроме каждения (профессиональный термин), то есть воскурения ладана с молитвой, когда видимый дым кадила знаменует невидимое присутствие Божьей благодати, занимаются многим чем другим, не менее важным. Равно как и остальная часть граждан страны. Не все у нас, по счастью, скандалят, похищают девочек, гоняют вдрызг пьяными на авто и вывешивают свои голые фото в Интернете. Слава богу, не все! Просто информационное пространство сегодня организовано таким образом, что именно катастрофы, разборки, склоки и разного рода отклонения от моральных, а также психических норм выходят в топы новостей. Чем сильнее отклонение, тем выше посещаемость сайта, рейтинг у передачи, больше тиражи и продажи. Сообщения о том, что прихожане храма помогают пострадавшим от наводнения, сайт «Милосердие.ru» спас еще одного больного ребенка, ученые подготовили к выходу в свет полное собрание сочинений Гоголя, строители возвели новый дом, врачи еще лечат, а учителя сеют разумное, доброе, вечное, потонут в крикливом шуме новостей и самопрезентаций. Информация про отца, выбросившего из окна родную дочь, непременно всплывет наверх. А сам несчастный вмиг станет героем новостийной ленты. Такая фокусировка общественного внимания на патологии не только искажает картину реального мира, приучает общество к мысли, что кругом дурдом, но и выстраивает ложные ориентиры у детей, еще не сформированных как личности.
Что делать? Можно, конечно, подождать, когда совестливость, честный труд, порядочность, уважение к ближнему станут сами по себе сенсацией, и потом насладиться описанием этого известия на первой полосе газеты. А можно осознать угрозу и подумать, что делать с новым идолом общества информационной всеядности — Рейтингом. Быть может, жертва, которую этот монстр ждет, не просто тела и души безвинных детей, но вся наша цивилизация?
Генитализация культуры
Теперь, как обещала, перейдем к сексу и публичному обнажению. В 1992 г. певица Луиза Чикконе, больше известная под именем Мадонна, выпускает альбом Erotica, предваряя его книгой под названием Sex. В основе сих шедевров массовой культуры воспроизведение полового акта. Причем не только в форме традиционной для рода человеческого, но и в тех, что издревле считались извращенными.
Естественно, вспыхивает скандал. Заглавное видео альбома, где поп-дива под нехитрое курлыканье плотоядно облизывает все предметы живого и неживого мира, услужливо подсунутые режиссером в кадр, запрещают к показу. Сплоченная и хорошо подготовленная группа поддержки певицы тут же объявляет всех ревнителей нравственности как минимум ханжами, ничего не смыслящими в современном искусстве. Поднявшийся ажиотаж подстегивает продажи, и мнение критиков, пытающихся сказать, что музыкальный материал альбома крайне слаб (о текстах вести речь вообще бессмысленно), глохнет в поднятом кипеже.
Стоит ли говорить, что поборница всяческих, но в основном секс-, свобод зарабатывает миллионы, а коммерческий успех предприимчивой звезды вдохновляет на креатив все новых и новых адептов? Сегодня скандальный клип доступен любому пользователю Всемирной паутины, причем его откровенность меркнет в сравнении с более свежей продукцией бурно развивающейся секс-индустрии.
Но что же происходит, когда сокрушаются нравственные табу? Чем уж так опасны дорогие и красивые шоу, эксплуатирующие сексуальные фантазии, то потаенное, что, возможно, живет в каждом? Чего уж так шарахаться от обнаженных тел и откровенного показа естественных человеческих потребностей? И по какому, кстати, праву можно ущемлять интересы тех, чьи желания и тяготения кажутся нам противоестественными? Зачем жаловаться на засилье порнухи? С чего возмущаться тем, что матерщина сегодня в ходу ничуть не меньше, чем нормативный великий и могучий? То есть пора спросить: чем страшно явление, которое можно было бы назвать генитализацией культуры? Оставим в стороне особей с нездоровой психикой и прочих маньяков. Чем чревато это для нормального индивидуума?
Сигнал опасности
Дело в том, что каждому из нас, созданному по образу и подобию Божьему, изначально свойственны такие качества души, как стыд и совесть. Совесть называют голосом Божьим в людях. А стыд — своего рода индикатор состояния души и одновременно страж, защищающий ее целостность, оберегающий наше целомудрие. Кнопка «alarm», загорающаяся красным цветом в случае опасности, грозящей главной ценности человека — его душе. По слову свт. Феофана Затворника «внутреннее наше всегда заключено, Сам Господь стоит вне и стучит, чтобы отворили».
Заключено, то есть закрыто, это «внутреннее человека» — его душа, не случайно. Упраздни чувство стыда, отключи кнопку, приучи человека не обращать внимания на ее сигнал, и внутреннее наше уже будет опасно открыто всем стихиям мира. Сам человек перестанет различать, где добро, а где зло. В обществе начнется одичание. Кстати, к снятию барьера стыдливости приводит не только массированная генитализация культуры, но и такие, казалось бы, безобидные игрушки современности, как социальные сети. О том, чем чревато, с духовной точки зрения, выкладывание в соцсетях самого сокровенного и интимного, мы еще поговорим. А пока вернемся к стыду, бесстыжести и культуре.
Не надо думать, что растление — изобретение нашего века. В статье «Наказание зла» («РГ-Неделя», N164) мы говорили о том, как заканчивают растлители. Но дело уже не в них, дело во всех нас. И красная кнопка «alarm», предупреждающая об опасности, давно уже должна заработать на уровне всего общества. Причем даже известен порог, за которым нужно включать непрерывный сигнал тревоги. Это религия. Наше отношение к Творцу и Святыням. Сегодня этот бастион цивилизации атакуют не только впрямую, кощунственно спиливая кресты или убивая священнослужителей. Нет. Мешок всех бедствий и смуты (так это называют в исламском мире) пытаются развязать и с помощью культуры. Культуры, которой уже поменяли вектор: не к Богу, вверх, а вниз — к животному в человеке, к самому низменному.
Мы упустили момент, когда пали запреты, и многие перестали ориентироваться, где добро, а где зло. Сегодня мы становимся свидетелями того, как эти ориентиры пытаются поменять: зло объявляется несомненным благом — свободой, а дремучее хамство — инновацией. Можно, конечно, и копошение лобковых вшей провозглашать новым словом искусства, но тогда стоит задуматься, какая цивилизация нас ждет. В ней венцом творения станет не тот, кто открыл закон всемирного тяготения, и не тот, кто придумал, как его преодолеть. И даже не тот, кто умеет строить разводные мосты или высотные здания со скоростными лифтами. Нет, в этом мире нас ждет торжество дикости: хам, заливающий этот лифт своею уриной. Мир, перевернувшийся с ног на голову. Мир, отключивший стыд. Мир, упразднивший совесть. Мир, возносящий фимиам Распущенности, Золотому Тельцу, Успеху. Мир вверх тормашками. Куда падать будем?
Контакт
Ждем ваших писем: 125993, г. Москва, ул. Правды, д. 24, редакция «Российской газеты», или pisma-maria@mail.ru
Беседы с Марией Городовой — на сайте
Êàê æå ìû ëþáèì ïîâòîðÿòü âñÿêèå ñëîâåñíûå øòàìïû! Îñîáåííî, åñëè îíè íåïîíÿòíû, ïàðàäîêñàëüíû, ïðåòåíäóþò íà ãëóáèííîå ïîíèìàíèå ìèðà. Êîíå÷íî, ñêàçàë ÷òî-íèáóäü ýäàêîå è óæå ìîæåøü ñîéòè çà óìíîãî, îáðàçîâàííîãî, íà÷èòàííîãî, à òî è ìóäðîãî. Âîò è ýòî âûðàæåíèå: «Çà ãðàíüþ äîáðà è çëà» ÿðêèé ïðèìåð òàêîãî ñëîâåñíîãî øòàìïà. Âñòàâèë â ñâîþ ðå÷ü ýòîò øòàìï è òåì ñàìûì ìíîãîå î ñåáå çàÿâèë. Âî-ïåðâûõ, òû çíàåøü, ÷òî òàêîå äîáðî è çëî. Âî-âòîðûõ, çíàåøü, ÷òî òàêîå ãðàíü ìåæäó äîáðîì è çëîì. Â-òðåòüèõ, çíàåøü, ÷òî åñòü ÷òî-òî «çà ãðàíüþ» è âñåãäà áåçîøèáî÷íî ìîæåøü ýòî îïîçíàòü. Âîò òàê!
Íà ñàìîì æå äåëå, ýòîò ñëîâåñíûé øòàìï àáñîëþòíî íå èìååò ñìûñëà, è òîò, êòî åãî ïîâòîðÿåò, íå òîëüêî íè÷åãî íå ïîíèìàåò â ýòîì ìèðå, íî åù¸ è ïîâòîðÿåò ÷óæèå ãëóïîñòè. Åìó äàæå ëåíü ïðèäóìàòü ñâîè ñîáñòâåííûå, îðèãèíàëüíûå ãëóïîñòè.
Äàâàéòå ðàçáèðàòüñÿ.
×òî òàêîå «ãðàíü»? Ñîãëàñíî òîëêîâûì ñëîâàðÿì, ýòî ïðåäåë, ðóáåæ, êðàé, ìåæà, ðàçäåëèòåëüíàÿ ëèíèÿ. Íó, åù¸ êðàÿ è ïëîñêîñòè îãðàí¸ííîãî ïðåäìåòà, íî ýòî óæå íå ñîâñåì òî.
×òî òàêîå «çà ãðàíüþ»? Ýòî çíà÷èò çà ðóáåæîì, çà ïðåäåëîì, çà êðàåì.
Ðàññìîòðèì ïðàâèëüíûå ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ ýòèõ ñëîâ «çà ãðàíüþ».
«Çà ãðàíüþ ðàçóìíîãî» òî åñòü íåðàçóìíîå, ãëóïîå, âûõîäÿùåå çà ïðåäåëû óìíîãî.
«Çà ãðàíüþ ïðèëè÷èÿ» òî åñòü íåïðèëè÷íîå, âûçûâàþùåå, îñêîðáëÿþùåå ÷óâñòâà ëþäåé, âûõîäÿùåå çà ïðåäåëû ïðèíÿòûõ ïðàâèë ïîâåäåíèÿ.
«Çà ãðàíüþ äîïóñòèìîãî» òî åñòü íåäîïóñòèìîå, îïàñíîå, âðåäíîå, òðåáóþùåå çàïðåòà, ïðåñå÷åíèÿ.
«Çà ãðàíüþ ïðèâû÷íîãî» òî åñòü íåïðèâû÷íîå, íå âñòðå÷àâøååñÿ ðàíåå, íåîáû÷íîå, íåïîíÿòíîå.
 ýòèõ ïðèìåðàõ âñ¸ ÿñíî, ïîíÿòíî, ëîãè÷íî è ïðîçðà÷íî.
À âîò ÷òî òàêîå «çà ãðàíüþ äîáðà è çëà»? Òî åñòü ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî ñóùåñòâóåò íåêèé îáúåêò, íåêîå ïðîñòðàíñòâî, íåêàÿ îáùíîñòü ïîä íàçâàíèåì «äîáðî è çëî». È åñòü íå÷òî, íàõîäÿùååñÿ âíå ýòîãî îáúåêòà, ïðîñòðàíñòâà, îáùíîñòè. Íå÷òî, ïðîòèâîñòîÿùåå è äîáðó è çëó, îòðèöàþùåå è äîáðî, è çëî. Âèäèìî, èìååòñÿ â âèäó èìåííî òàêàÿ ñèòóàöèÿ. À èíà÷å íå ñîâñåì ïîíÿòíî, ïðè ÷¸ì òóò ãðàíü.
Âîçìîæíî, ïðàâäà, äðóãîå òîëêîâàíèå. Ñóùåñòâóþò äîáðî, çëî è ðàçäåëèòåëüíàÿ ëèíèÿ, ãðàíèöà, ãðàíü ìåæäó íèìè. Íî òîãäà ïîëó÷àåòñÿ àáñóðä. Äîïóñòèì, åñòü ãðàíèöà ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè À è Á. È ÷òî æå òàêîå ìîæåò íàõîäèòüñÿ «çà ãðàíèöåé À è Á»? Îíî îáÿçàòåëüíî èëè â À, èëè â Á, èëè íà ãðàíèöå ìåæäó íèìè. Èíà÷å íèêàê.
Òåïåðü âñïîìíèì, ÷òî òàêîå èñòèííûå, à íå êàæóùèåñÿ äîáðî è çëî. Äîáðî ýòî ãàðìîíèÿ ìèðà, çëî ýòî ðàçðóøåíèå ãàðìîíèè ìèðà. Ïðîñòåéøàÿ àíàëîãèÿ ýòî çäîðîâüå ÷åëîâåêà (äîáðî) è áîëåçíü ÷åëîâåêà (çëî). Ðàçíèöà ìåæäó íèìè ïîíÿòíà, ãðàíèöó (ãðàíü) ïðåäñòàâèòü ñåáå âïîëíå ìîæíî, à èíîãäà ìîæíî äàæå ÷¸òêî å¸ ïðîâåñòè.
Äàëåå. Âñ¸, ÷òî ïðîèñõîäèò â ìèðå, èëè ñëóæèò äîáðó, èëè ñëóæèò çëó, èëè íå âëèÿåò ïðÿìî íà ñîîòíîøåíèå äîáðà è çëà. Áîëüøå íèêàêèõ âàðèàíòîâ íåò.
Òî÷íî òàê æå è â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà: åñòü òî, ÷òî óêðåïëÿåò çäîðîâüå; åñòü òî, ÷òî óñóãóáëÿåò áîëåçíü; à åñòü òî, ÷òî ïðÿìî íå âëèÿåò íà áîðüáó çäîðîâüÿ è áîëåçíè, íà ñîîòíîøåíèå ìåæäó íèìè. Íàïðèìåð, åñëè ïðîñòóæåííûé ÷åëîâåê áóäåò ãóëÿòü ðàçäåòûì íà ìîðîçå, òî åãî áîëåçíü óñèëèòñÿ, âîçíèêíóò îñëîæíåíèÿ, çäîðîâüå ïîäîðâ¸òñÿ. Åñëè îí ïðèìåò õîðîøåå ëåêàðñòâî, òî åãî áîëåçíü îòñòóïèò, è çäîðîâüå óêðåïèòñÿ. À âîò åñëè ÷åëîâåê ñêàæåò «À» èëè ïðèêîñí¸òñÿ ïàëüöåì ê êîí÷èêó ñâîåãî íîñà, ýòî íå ñäåëàåò åãî íè áîëåå çäîðîâûì, íè áîëåå áîëüíûì.
Ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ñîáûòèÿ, ÿâëåíèÿ, ïîñòóïêè, êîòîðûå ïðÿìî íå âëèÿþò íà ñîîòíîøåíèå äîáðà è çëà, íàõîäÿòñÿ â ñòîðîíå îò äîáðà è çëà, ÷òî îíè íå ïðèíàäëåæàò íè äîáðó, íè çëó èëè äàæå ïðîòèâîñòîÿò äîáðó è çëó îäíîâðåìåííî. Íî ýòî îøèáêà. Îíè ïîëíîñòüþ ïðèíàäëåæàò äîáðó, ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì äîáðà, òî åñòü ñîõðàíÿþùåéñÿ åù¸ ãàðìîíèè ìèðà. Ïðîñòî îíè, ìîæíî òàê ñêàçàòü, íàõîäÿòñÿ â ãëóáîêîì òûëó äîáðà, äàëåêî îò ãðàíèöû ñî çëîì, ïîýòîìó èõ âëèÿíèå íà áîðüáó ñî çëîì ìèíèìàëüíî. À âîò åñëè çëî áóäåò óñïåøíî íàäâèãàòüñÿ íà äîáðî, åñëè îíî äîáåð¸òñÿ è äî ñàìûõ ãëóáîêèõ òûëîâ äîáðà, òî òàêèå ñîáûòèÿ ñòàíóò çàòðóäíèòåëüíûìè èëè ïðîñòî íåâîçìîæíûìè.
Ïî àíàëîãèè ñ áîëüíûì ÷åëîâåêîì: åñëè áîëåçíü ïåðåõîäèò â òÿæ¸ëûå ôîðìû, òî ÷åëîâåê óæå ãîâîðèò è äâèãàåòñÿ ñ òðóäîì. Çäîðîâüÿ (äîáðà) îñòà¸òñÿ ñëèøêîì ìàëî. À åñëè áîëåçíü îêîí÷àòåëüíî ïîáåäèò, òî ÷åëîâåê óìð¸ò è áîëüøå âîîáùå íå áóäåò íè ñëîâ, íè äâèæåíèé.
À òåïåðü ïîñìîòðèì, â êàêèõ ñëó÷àÿõ ëþäè ïðîèçíîñÿò ýòè ñàìûå ñëîâà: «Çà ãðàíüþ äîáðà è çëà». Îáû÷íî ýòî çíàê âîçìóùåíèÿ, íåãîäîâàíèÿ, ðàñòåðÿííîñòè îò êàêîãî-òî ïîñòóïêà, îò êàêèõ-òî çàÿâëåíèé, ñëîâ, ñîáûòèé. Òî åñòü èìååòñÿ â âèäó êðàéíÿÿ ñòåïåíü îñóæäåíèÿ. È ÷òî æå òîãäà òàêîå îñóæäàåòñÿ? ×òî äîëæíî áûòü îñóæäåíî áîëüøå, ÷åì çëî? ×òî ìîæåò áûòü õóæå íå òîëüêî äîáðà, íî è çëà?
Åñëè ýòîò ïîñòóïîê, ýòî çàÿâëåíèå, ýòî ñîáûòèå èëè ÿâëåíèå íå èìåþò ïðÿìîãî âëèÿíèÿ íà ïðîòèâîñòîÿíèå äîáðà è çëà, òî îíè íèêàê íå çàñëóæèâàþò áóðíîé ýìîöèîíàëüíîé ðåàêöèè. Íó, ñëó÷èëîñü è ñëó÷èëîñü, íè÷åãî òàêîãî îñîáåííîãî íå ïðîèçîøëî.
Åñëè æå ïðîèçîøëî ÷òî-òî äåéñòâèòåëüíî ïëîõîå, äîñòîéíîå âîçìóùåíèÿ, îñóæäåíèÿ, îòâðàùåíèÿ, íåãîäîâàíèÿ, òî ýòî ïðîñòî-íàïðîñòî çëî. Ñàìîå îáû÷íîå çëî. Îíî ïðÿìî ïîäïèòûâàåò îáùåìèðîâîå çëî, îíî ñëóæèò ìèðîâîìó çëó, ðàáîòàåò íà ðàçðóøåíèå äîáðà, ãàðìîíèè ìèðà. Îíî, êîíå÷íî, íàõîäèòñÿ çà ãðàíüþ äîáðà, íî îñòà¸òñÿ ïîëíîñòüþ â ãðàíèöàõ çëà è âîâñå íå âûõîäèò çà ïðåäåëû çëà, çà ãðàíü çëà.
Âîò è íàäî íàçûâàòü âåùè ñâîèìè èìåíàìè. Íàäî â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïðîñòî ñêàçàòü: «Ýòî çà ãðàíüþ äîáðà, ýòî çëî». À íå ïîâòîðÿòü ÷óæèå ãëóïîñòè, íå íàäóâàòü âàæíî ù¸êè, è íå èçîáðàæàòü èç ñåáÿ âåëèêîãî ïîñâÿù¸ííîãî, çíàþùåãî ÷òî òàì, «çà ãðàíüþ äîáðà è çëà».
Злата Эллерт 6 лет назад Безусловно она существует, но определяет ее для себя каждый самостоятельно. Так же как и с правдой — она у каждого своя. Что является злом для одного не обязательно будет злом для всех. Для меня к примеру — убийство это зло, но ведь есть люди просто воспитанные по другому. С другими моральными ценностями. И для них это может быть в порядке вещей, они может быть не умеют думать по другому. Конечно же такие люди редкость ( я надеюсь), но нельзя отрицать что они есть. Или к примеру, воровство. Робин Гуд грабил только богатых, но ведь это все равно называется воровством и для кого то это зло. Да даже хотя бы для самих богачей, которых он обокрал. Также добрый поступок кто то рассмотрит как реальную доброту, а кто то увидит в нем скрытые мотивы и это будет уже не такое уж и добро. Рассуждать на эту тему можно вечно, но боюсь вас утомить. Надеюсь, смысл который я пыталась донести понятен) Хороший вопрос. Грань между добром и злом определяется: а)обществом, социумом в котором находится человек. Границы этого естественно меняются с развитием социума и зависят опять же от норм этого социума. Для каннибала поедание себе подобного нормальный процесс и даже почетен, а для другого общества это абсолютное зло. б) внутри самого человека и определяется его морально — нравственными установками. Беда в том что понятия добра и зла не являются статичными и зависят не только от социума, но и от условий в которых приходится применять эти понятия. Даже в заповеди при вроде бы категоричности определения вопрос добра и зла является дискуссионным. «не убий» правильный и категорический императив. А если человек убил террориста угрожающего жизни детей и женщин — он совершил добро или зло? Нехороший человек 6 лет назад Есть такая загадка: кто из людей первым удостоился спасения? Оказывается, что первым спасшимся стал раскаявшийся разбойник, распятый со Христом и получивший от Него обетование: «Сегодня же будешь во Царствии со мной.» Хотя, может быть, всю жизнь убивавший, грабивший, но за раскаяние спасся ранее многих праведников. Т.е. у Христа другие критерии, отличные от традиционных для общества. В этом мире границы между добром и злом действительно размыты. И в Евангелии, на протяжении всего повествования, Он противопоставлял Себя этому миру и «князю мира сего», предлагая нам сделать выбор: «Либо Я, либо этот мир.» Т.е. Бог и этот мир — они не совместимы. Кто выбирает этот мир, тот подпадает под «юрисдикцию» «князя мира сего» и после смерти к нему же и отходит (во всех религиях, языческих верованиях говорится, что ничего хорошего таковых не ждет). Яркий пример кто отрекся от этого мира — это верующие отшельники, ушедшие в леса, пустыни и там призывающие Бога. Если Бог — это добро, то выбирайте. Наталья Морозова 6 лет назад Добро и зло — это скорее философские понятия. Очень часто они подгоняются под более прогматичное — целесообразно или не целесообразно. Как ни ужасно это звучит, но иногда целесообразность стоит за гранью добра и зла. Возьмем абстрактную ситуацию: наивный путешественник попал в плен к дикому племени мумбо-юмбо, а они канибалы и непременно съедят бедолагу. Жалко его? Жалко. Спасти неуделуха — это доброе дело? Доброе. А если в ходе его спасения погибнет несколько человек, которые не по своей глупости, а по долгу службы рискуют жизнью? Кто дороже обществу: праздношатающийся искатель приключений или несколько профессиональных спасателей, которые за это время могли помочь другим людям? Я думаю, каждый сам для себя определяет что есть добро, а что зло. И вряд ли эти понятия одинаковы у отдельного человека, общества или целого государства. В Валов 6 лет назад Границы между добром и злом устанавливают: религия, закон, воспитание и общественное мнение. В разных религиях и в разных странах эти границы разные. Установление таких границ позволяет манипулировать людьми, для того они и существуют. Есть ещё граница между добром и злом у некоторых людей, внутренняя граница — хорошо и плохо. Но с этими границами постоянно борятся вышеперечисленные структуры. Человек имеющий своё понятие, что такое хорошо и что такое плохо, неуправляем и опасен для общества. Между добром и злом есть граница. Кто ее определяет? Она определена была давно. Взять во внимание ту же библию. Думаю человек сам должен видеть грань. Безусловно это трудно. Каждый живет со своим видением мира, каждый из нас в чем- то ошибается, заблуждается. Ведь мы подвержены влиянию. То что мы считаем правдой оказывается ложью, а то что считаем ложью является правдой. Добро и зло, что это? Я считаю, это просто слова. Не было и нет критериев для определения этих понятий. Вот Мари_Т ссылается на Библию, мол там всё прописано. Увы, это на так. Можно привести массу примеров из той же Библии, где восхваляются дела, в наше время не имеющие никакого отношения к «добру». Проще говорить о «принятом» и «не принятом», это более понятно. Ирина 29 6 лет назад Я думаю, у каждого человека есть такой прибор внутри — душа, она и определяет добро ты сделал или зло. Другое дело, что мы часто стараемся не замечать ее, но я думаю, душа все равно дает о себе знать. А общественная мораль и законы часто меняются. Знаете ответ? |